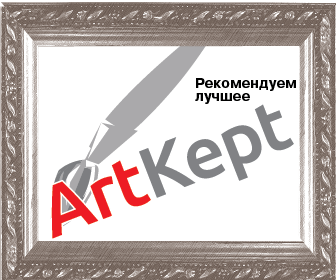В начале этого года в издательстве Игоря Розина тиражом всего в сто экземпляров вышла итоговая книга челябинского писателя, историка, пушкиниста А.А.Бухарина «Тропинка к Пушкину». Автор не дожил до ее выхода всего несколько месяцев. О том, кем был для Челябинска этот удивительный человек, и о мотивах издателя, напечатавшего книгу с красноречивым подзаголовком «Думы о русском самостоянии» на свои средства, и была наша беседа.
- Как вы познакомились с Анатолием Андреевичем?
- Я работал тогда, лет 15 назад, в издательстве «Аркаим», он пришел туда, издательство было большое, многие авторы приходили. Я сразу отметил, что он очень красноречив, на свои излюбленные темы он мог рассуждать неустанно. Но, собственно, это не было еще настоящим знакомством. А настоящее, оно произошло года два-три спустя, благодаря областному радио. По радио я случайно услышал рассказы Бухарина, не помню, кто их читал. Это были небольшие рассказы, очерки, зарисовки, и они меня совершенно поразили. До этого подобное впечатление (если говорить о челябинских авторах) на меня произвели рассказы Геннадия Лазарева (он издавал в свое время в «Аркаиме» книжки за свой счет), но это другая история.
- А что вас в них задело?
- Понимаете, в этих рассказах (они все вошли в изданную книгу) главное было – это пронзительное ощущение красоты и одновременно трагичности бытия. В них не было ни слова лишнего, и ничего провинциально-невнятного. Такие «сколки бытия» (бухаринское определение), но сколки струящиеся, обжигающие, вырывающие из плоскости и рутины. В этом был объем, был трепет живой души. Живой, то есть осознавшей себя, свою в этом мире одинокость, и осознавшей неизбежность выстраивания, выращивания себя… ведь душа – это не статика, душа – это постоянный рост, постоянное усилие, постоянное преодоление.
Так мне это всё увиделось, и потом, когда мы стали с Анатолием Андреевичем перезваниваться, когда я прочел многие его тексты, я понял, что не ошибся. Это оказался редкий человек, чье красноречие и любомудрие не были от лукавого. Да, он любил себя в этих своих страстных «литературных» монологах, но любил постольку, поскольку чувствовал в них себя – в соседстве с Мыслью. Это был один из тех редких для провинции литераторов, который использовал литературу, речь, язык – именно как орудие понимания. Не как орудие описательное, тщеславно-самоублажающее и т.д. Своими текстами он понимал эту жизнь, и своими текстами он приближался к пониманию себя.
Это особенно заметно по его воспоминаниям. В них – поразительная искренность, когда человек не прячет от себя самого и от читателя никакие свои огрехи. В этом дерзость стрелы, летящей в цель. Он любил повторять в последние годы слова, кажется, Ницше, о том, что одно только важно – догнать в себе человека. И он как раз и пребывал в этом состоянии погони-за-внутренним-человеком, в этом поиске себя. Поэтому и не думал о том, как будет восприниматься, не сильно думал о том, каким покажется перед читателем, как будет выглядеть.
- Книга на самом деле получилась очень емкая, в ней столько разных пластов.
- Это книга избранных текстов за последние 15 лет. Тексты действительно разные, а объединяет их, на мой взгляд, именно исповедальность, искренность, предельность. Он тоже любил это слово, считал, что литературой может называться только «предельное слово», не вымученное – но произнесенное всем существом человека. И в этом смысле его тексты – большая литература, потому что написаны на пределе, потому что фиксируют процессы часто невидимые, неявные. Фиксируют рост души.
- Говорят: нет пророка в отечестве своем. Это и о Бухарине?
- Безусловно! Ведь здесь в чем дело? Ведь пророк – это кто? Это человек, живущий невидимым, человек, большая часть души которого не видна современникам. Человек, живущий не для мира сего, но – для духа. Поэтому часто он и побиваем камнями или – в лучшем случае – игнорируем и осмеян. Он странный, он чудак. Современники живут вовне, пророк – внутри, в тайне. Между собой мы общаемся на уровне ходульных смыслов, это – наша навязанная нам извне, социумом, суть. И любой, кто живет чуть иначе, может стать для нас проводником. Поводырем к нашей собственной душе, захламленной грудами сиюминутных забот.
Человек, находящий в себе силы растить свою душу, - это уже в каком-то смысле пророк. И не замечая такого человека, мы отворачиваемся и от себя, от своей души, мы, если хотите, «продаем свою душу».
- Вы поэтому издали Бухарина?
- Да, наверное. Я видел, чем для него была эта книга. Он как ребенок надеялся, он верил, что я найду для нее деньги. Он был счастлив, что есть человек, который искренне эту книгу полюбил. И с другой стороны, я понимал, что эта книга может стать для кого-то источником жизни, смысла. Несколько пафосно, но так. Я думаю, что современный мир, с его главенством информации, с его «плоскостопием», кардинально отличается от классической реальности, бывшей еще лет сто назад. Время гениев и пророков кончилось безвозвратно, сейчас эпоха серости и посредственности. Именно серость главенствует. А гении, «пророки» - не слышны, они, как средневековые ремесленники-мастера, живут на своей улице и тихо делают свое дело… И зачастую их даже «на своей улице» не замечают. Так вот, чтобы «в своем околотке» было возможно заметить, я и издал эту книгу. Это такой, с одной стороны, символический, внутренне для меня важный жест, который ничего в мире не изменит (тираж-то смешной у книги – сто экземпляров), а с другой стороны – это жест в сторону «неизвестного соседа», неизвестного читателя, которому теперь, теоретически говоря, эта книга может попасть в руки, и может стать опорой.
Я думаю, мы должны жить, создавая такие «опорные точки» в своей душе. И – если есть силы и позволяют обстоятельства – мы должны транслировать эти «опорные точки» и вовне. Это называется еще – вклад в человеческий дух, или – попросту – благодарность.
- Я знаю, что вы сейчас делаете сайт, посвященный искусству региона. Здесь примерно такие же мотивы?
- Да, мотивы одни. Эпоха очень неблагодарная, и ко всему прочему – еще и очень поверхностная. И в Челябинске это ощутимо как нигде. Промышленный город, город, который никогда не ценил и не ценит своих художников. Город, где на миллион жителей и на сотни миллиардеров – один меценат. И всё живое, всё творческое уходит в небытие очень быстро. А интернет – пусть иллюзорный, но шанс что-то сохранить, шанс создать некий живой контекст культуры. Для Челябы это может стать очень значимым. И мы пытаемся этот шанс использовать. Наладить живой диалог живых людей, обозначить, сохранить и развить некие культурные связи, культурную преемственность.