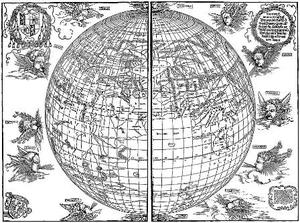Пустынник отец Никифор
Книга прозаика и богослова протоиерея В.П.Свенцицкого (1881-1931) "Граждане неба. Моё путешествие к пустынникам Кавказских гор" (1915) была замечена современниками автора. Она представляет собой подробный отчет о предпринятом паломничестве и содержит удивительно живые и неприукрашенные портреты православных отшельников и монахов начала 20 века. "Портрет" отца Никифора - один из самых ярких.
<…> VII. О. Никифор
Мы выходим на просторную, открытую поляну.
Я вглядываюсь. Келью посредине поляны видно ещё совершенно ясно: она похожа на небольшую, низенькую крестьянскую избу.
О. Иван показывает мне рукой на другой конец поляны и радостно говорит:
-- А вон и отец Никифор! Слава Богу! Теперь, значит, всё хорошо будет. Я боялся, что он ушёл в церковь.
Быстрым, бодрым шагом навстречу нам шёл старик невысокого роста. Очень худой. С маленьким личиком и громадной белой бородой.
О. Иван представил меня:
-- Вот наш московский гость, о котором говорил брат Сергий.
-- Пожалуйте, пожалуйте, -- совершенно молодым голосом быстро и звонко сказал о. Никифор.
Меня поразили его глаза, и даже, вернее, взгляд его. Он не смотрел прямо и пристально. А взглядывал искоса, боковым острым взглядом. Глаза у него очень большие, серые, светлые. И от этого странного бокового взгляда является почти физическое ощущение, что видит он дальше, чем обыкновенный человеческий глаз.
Я почувствовал сразу, что передо мной не просто "хороший человек", а какое-то явление высшего порядка.
И о. Сергий, и о. Иван очень понравились мне. Я видел в них людей, ушедших далеко в духовном отношении, понимал, что есть у них чему поучиться. Но тут было другое. И с о. Иваном, и с о. Сергием я всё же стоял на каком-то общем уровне: пусть они выше, я ниже, но мы величины соизмеримые. А здесь разница не качественная, а по самому существу. Просто совсем другое. Про о. Никифора нельзя сказать, что он "лучше" о. Ивана. Он не соизмерим ни с кем другим. Точно и я, и о. Сергий, и о. Иван -- люди, а о. Никифор -- некое существо иного порядка...
И было странно видеть, как он хлопочет с умывальником, с полотенцем, с чайником. Но и в этих мелочах было что-то особенное, и отношение к его словам, часто шутливым, тоже особенное...
Он подавал своё грубое полотенце и на мои слова "Спасибо, у меня в сумке есть своё..." возражал:
-- Уйдёте, будете своим утираться. А здесь моим утирайтесь.
И в тоне, и в лице его было что-то такое, отчего сразу становилось ясно, что надо делать так, как он говорит.
Вначале несколько раз на такие мелочи я как-то по инерции возражал ему. Он окидывал меня своим боковым острым взглядом и сейчас же соглашался:
-- Хорошо, хорошо... Как лучше! Делайте, как лучше!..
Пока мы приводились в порядок, о. Иван рассказывал о. Никифору о встрече в духане с больным монахом.
-- Вы сказали, что он душевнобольной? -- обратился ко мне о. Никифор.
-- Да. Я в этом уверен.
-- Очень рад такому гостю, -- неожиданно, скороговоркой бросил мне о. Никифор.
Ушёл к себе в келью. Принёс хлеб. Поставил на стол посуду и подошёл ко мне.
-- Вы знаете, -- сказал о. Никифор, -- в монастыре, может быть, и больше душевнобольных, да их не видно, а в пустыне видно. В пустыне всё делается видно. Здесь на виду стоим. На горе! Там и то и другое незаметно может быть, а здесь какой ни на есть, а должен быть конец: или спасёшься, или погибнешь. Здесь человек неузнанным не проживёт.
О. Никифор говорил очень складно, ясным, молодым голосом. Но в словах его было ещё что-то другое, какая-то особенная убедительность. Не возникало даже тени сомнения или попытки не соглашаться. Как будто бы то, что говорил о. Никифор, было не какое-либо "его мнение", а "то самое", "наверное" -- и это надо было не обсуждать, а просто слушать.
----------
До поздней ночи просидели мы на поляне с о. Никифором.
Кругом чёрной стеной стоял лес. Острые зубцы вырисовывались на светлом, звёздном небе. По всей поляне, точно восковые свечи, вспыхивали и гасли летающие светляки. Я видел их и раньше на Кавказе, но никогда не мог представить себе такого количества. Тысячи, тысячи таких огней горело в лесу. И откуда-то издали несся странный тревожный звук: "У-гу!.. Угу-гу!.." Точно где-то далеко-далеко звал к себе человеческий голос.
Это кричал филин.
О. Никифор говорил тише. Наклонялся близко ко мне. Глаза его и в темноте были всё такие же острые и ясные. Белую бороду ветер отдувал в сторону, и весь он казался сказочным лесным дедушкой...
-- Я в миру скверно жил, -- говорил о. Никифор -- а о пустыне с самого детства думал. Тут таинство. Вы послушайте-ка, милый братец. Был я приказчиком галантерейного магазина. Потом сам хозяином стал. Богато жил. Жена была хорошая, тихая... А я жил очень скверно. Всё, что в голову приходило, то и делал, точно узнать хотел, что из этого выйдет. Мать у меня была. Она говорила мне: "И день, и ночь о тебе молюсь, а ты всё живёшь по-прежнему". Я просил: "Не бросай, ещё молись". Жена померла скоро. И стал я чувствовать: пока от денег не освобожусь, ничего не выйдет. А отдать их сил нет. И стал я сам себя обманывать: вместо того, чтобы просто отдать, -- мотать их. Решил всё извести! Извёл. И вижу тогда, что могу. Но всё ещё связан был.
Только когда к Новому Афону подъезжать стал, почувствовал, что освобождаюсь. Долго на Новом Афоне жил, а сам всё о пустыне думал. Терпел, терпел. Нет, вижу, надо идти... И ушёл... И вот какое таинство! Едва не погиб в пустыне. Рассудка было лишился.
О. Никифор отвернулся и долго смотрел в темноту.
-- Как же это случилось, отец Никифор? -- спросил я.
О. Никифор молчал.
О. Иван тихо сказал:
-- Не так молился...
-- Как случилось? -- снова начал о. Никифор. -- Не так молился. Десять лет жил -- и всё не так. Едва не погиб. Бога в зрительном образе представлял. Молюсь и вижу на небе Господа Иисуса Христа одесную. Думаю, ему кланяюсь. А это -- демон. Этакое таинство. Братия указывала мне: не надо так молиться. Слова эти, аки копьё, сердце поражали, обозлюсь -- уйду. И опять молюсь по-своему. Теперь я дар имею: как войду в церковь, вижу, кто из братии так молится... И ведь таинство какое, милый братец! Молюсь, бывало, вижу зрительно пред собой самого Господа. Устанет ум смотреть, хочу его оттуда назад свести, а демон новую картину открывает, полчище ангелов. Опять интересно для ума -- опять смотрю... Хочу оторваться -- опять новое является... До того измучился, чувствую, ещё немного -- и ум сам пойдёт туда и как бы отделится от меня, и я тогда сойду с ума. Приходит один монах, и я говорю ему: "Сегодня или завтра я с ума сойду". -- "Да что ты, отец, ни из чего этого не видно". -- "Не видно, потому что это таинство. А мне самому видно". Сам уж и бороться не могу. Что же, думаю? Господи, пощади создание Своё!.. Вечером прочёл я вечерню, лег спать. Ночью встал акафист читать. И вот таинство, милый братец; чувствую, как сама благодать входит в меня. Читать не могу. Стою недвижим. Дух овладевает плотью... Чувствую -- всё переродилось. Всё стало живое. И такая тишина и мир, что передать не могу. И слышу: "Ищи в сердце!" Тут я всё понял. Стал благодарить Господа... Пощадил создание Своё. Слава Тебе, Господи... Другим человеком стал. И тогда я пошёл! То есть, как пошёл? Летел! Не то чтобы я представлял себе, что лечу, а прямо не знаю, что со мной делается: лечу как стрела, и каждый день всё новое, всё новое открывается, и главное, чувства все -- живые. Так длилось года четыре. А уж как дьявол старался в это время. Я чувствовал его приближение издали. А придёт -- подойти боится. Видит, что я могу не пустить его... Теперь опять трудное время наступает для меня. Помоги, Господи! Надо мне безмолвие. Как ушёл из Драндской пустыни, так и стал на одной точке. Не двигаюсь...
-- Почему же вы ушли из Драндской пустыни?
-- Испугался! -- неожиданно ответил о. Никифор.
-- То есть, как испугались?
-- Разбойников испугался. Придут, отнимут всё -- и нужное, и ненужное -- это я, ничего, терпел. Но потом бить начали -- не вынес! Бывало, встанешь на молитву, а сам думаешь: вот-вот сейчас придут разбойники. И молиться не можешь. Один раз стою на молитве, входит человек и спрашивает: "Корову не видел?" -- "Нет! Какая же здесь может быть корова!" -- "Выходи, говорит, выходи из кельи". Взял меня за руку и тянет. Иду за ним -- смотрю: у стены двое ещё притаились; как вышел я, прямо ко мне бросились. Приставили кинжал острием к сердцу. Не боялся нисколько, только об отдании живота думал: "Господи, пощади создание Своё!" -- "Деньги, говорит!" -- "Нет, говорю, какие же у нас деньги!" Поискал-поискал -- нашёл две копейки. Дал. Взяли! Один только обозлился, ударил по щеке кинжалом, не острием. Другой взял вот так рукой за щеку, посмотрел, не разрезал ли. "Нет, говорю, ничего, не разрезал". Грозит мне: "Никому не сказывай!" -- "Не скажу..."
А один раз умалишённый пришёл. Этот не грабить, а так. Да буйный. Ударил меня в грудь концом палки. Палка была крепкая, из пальмы. Сжался я весь в угол. Ну, думаю, если ещё раз ударит -- конец! Господи, пощади создание Своё! Нет, не тронул больше. Один брат со мной жил. На него бросился. Так ему все зубы выбил. Кровь изо рта льётся. Я говорю: "Господи, да не бей ты его. Что же ты делаешь!" Ушёл, слава Тебе, Господи. Оставил... Да... Много всего было...
-- Отец Никифор, -- сказал о. Иван, -- а ведь им отдохнуть нужно.
-- Да-да... С дороги надо отдохнуть, -- заторопился о. Никифор. -- Что же это я. Пойдём, отец Иван, проводим.
До кельи о. Герасима, где я должен был ночевать, дорога идёт лесом. На поляне казалось светлее от звёздного неба, а в лесу совсем темно. О. Никифор просит меня дать ему понести мою сумку.
-- Нет-нет, я сам. Что вы, отец Никифор.
-- Ведь вы крутых косогоров боитесь?
-- Боюсь.
-- Там косогор будет -- вы с сумкой не пройдёте.
Я отдаю её.
И когда сумка уже в руках о. Никифора, он тихонечко смеётся и говорит:
-- Я пошутил, косогора не будет.
Келья о. Герасима, которую он бросил и сам ушёл строиться на другие горы, поближе к монастырю, имеет жилой вид. На столе стоит чашка, восковая свеча. На гвозде висят полукафтанье и чётки.
-- Вам будет покойно здесь. Спите с Богом, -- говорит о. Иван.
Прощаемся. Уж совсем перед тем, как уходить, о. Никифор говорит мне:
-- Об отце Иларионе и о монастыре я вам вот что скажу: был он здесь. Были и другие братья. Внизу, под горой. Много спорили. И вот, когда я ушёл от них и поднялся к себе на гору, вдруг увидел перед собой на одно мгновение -- аки молния блеснула -- воина. И сказал воин: "Поздно строить монастыри!" Ну, спаси, Господи, отдыхайте.
Он по-светски подал мне руку.
-- Утром я разбужу вас, -- сказал о. Иван.
Будить меня не пришлось.
Когда я встал и вышел из кельи, солнце ещё не поднялось из-за гор и утренний туман дымился над дальним лесом.
Поляна, на которой стоит келья о. Герасима, гораздо меньше, чем у о. Никифора. Лес придвинулся совсем близко: с одной стороны кельи -- поднимаясь в гору, с другой -- спускаясь уступами. Около кельи разбит небольшой огород. Посажены картофель и несколько кустов фасоли. Из-за леса поднимается хребет снежных гор, и общее впечатление от всего совсем иное, чем у о. Никифора. Там весёлое, открытое, ровное место. Здесь -- глухое, замкнутое, одинокое... Зелень густая, тёмная. И келья хоть и больше, чем у о. Никифора, но неуютная, почти враждебная.
Когда пришёл о. Иван, я сказал ему о своих впечатлениях. Он согласился со мной, но прибавил:
-- А я не люблю открытых полян. Такие места нравятся мне больше.
Снова, по той же тропе, что и вчера ночью, пошли мы к о. Никифору. Недалеко от кельи -- колодец. Стоит крест. Земля чёрная, холодная от сырости. В лесу глубокая тень. Травы мало. Сухие листья лежат, как перина, и нога тонет в них.
Чем ближе к поляне о. Никифора, тем выше и реже становится лес. Светлеет. На открытых местах яркими пятнами выбивается зелёная трава.
На самом краю поляны о. Никифора стоит маленькая-маленькая копна сена, аккуратно покрытая навесом от дождя.
-- Зачем это сено отцу Никифору? -- спрашиваю я о. Ивана.
О. Иван улыбается.
-- Продаёт.
-- Продаёт? Да кому же оно здесь нужно?
-- Поселенцам.
-- Как же они берут его отсюда?
-- Да отец Никифор на себе носит.
-- С горы?
-- Да. Так по охапке и носит.
-- За сколько же продаёт он это сено?
-- За три рубля с доставкой, -- смеётся о. Иван. -- Поляна хорошая, -- прибавляет он, видимо, любуясь открывшимся видом.
Действительно, поляна хорошая!
Ровный зелёный скошенный луг. Маленькая келья. Огородик около неё. А по краям такой славный смешанный лес: тут и дуб, и липа, и сосна. Дальних гор не видно, и, если забыть дорогу к о. Никифору в гору и безлюдье кругом, можно подумать, что это не келья пустынника, а приветливая лесная сторожка.
О. Никифор ждёт нас у кельи.
Подходим.
Я спрашиваю о. Никифора, можно ли его снять.
Он улыбается и говорит:
-- Что же выйдет? Келья, а около неё старик-пустынник: само дело велит сняться!
Я снова рассматриваю его. И снова, теперь уже при дневном освещении, он производит на меня впечатление не человека, а лесного дедушки. Снова поражают глаза его, острый боковой взгляд. И непередаваемое, почти физическое ощущение, что взгляд этот видит самое сокровенное в душе.
На столе уже расставлены стаканы, стоит чайник с кипятком, нарезан хлеб, и в большой чашке дымится вареный картофель.
О. Иван читает молитву. Громко, отчётливо. О. Никифор делает "возглас" шёпотом, точно вздыхает, слышны только отдельные слова:
-- Молитвами святых отец наших... Господи... помилуй нас...
Садимся за стол, и о. Никифор начинает угощать нас. Сегодня разговенье: первый день после Петровского поста. О. Иван принёс из монастыря в подарок о. Никифору рыбу-кутум. У меня с собой сыр и консервы. О. Никифор пробует всё охотно, ест и хвалит:
-- Такого сыру никогда не ел!.. Рыба-то необыкновенная какая-то...
Меня он уговаривает:
-- Вы мало едите. Вам больше надо есть. Дорога трудная впереди.
О. Иван вспоминает, как побывал у пустынников один иеромонах и потом осуждал их:
-- Ничего особенного в них нет. Едят по два раза в день.
О. Никифор слушает внимательно и очень серьёзно говорит:
-- Так и надо. Мы не можем слишком сильно поститься. Господь от человека требует не голода, а подвига. Подвиг -- это то, что может человек сделать самого большого по своим силам, а остальное по благодати. Силы наши теперь слабые, и подвигов больших Господь с нас не требует. Я пробовал сильно поститься. И вижу, что не могу. Истощаюсь -- нет сил молиться как надо. Однажды так ослаб от поста -- встать правила прочесть не могу. Господи, думаю, пощади создание Своё. И слышу в сердце: не вставай -- лежи, пока поправишься. Так Богу угодно...
После чая о. Никифор и о. Иван предложили пойти гулять.
-- Покажем вам наш лес, -- сказал о. Никифор.
Мы спустились немного вниз и пошли некрутым косогором, без тропы, прямо по лесу, по мягким прошлогодним листьям. Дошли до маленькой кельи о. Никодима. Посидели около неё. И снова вошли в лес. Спустились ещё ниже, до глубокого, глухо заросшего оврага. Через овраг перекинут мост: громадная пихта с густыми, теперь полусгнившими ветвями.
-- Этому мосту, -- сказал о. Иван, -- лет пятнадцать будет. Рубил пустынник дерево, а оно не вниз упало, а поперёк оврага. Приделал он перила, обрубил с одного боку ветви, и вышел мост.
Это место одно из самых красивых в лесу о. Никифора. А в общем весь лес напоминает среднюю полосу России. Не очень высокие дубы, липа, вяз, орешник. Открытые поляны. Тёмные, поросшие густой зарослью овраги. Пахнет грибами, прелыми опавшими листьями и какой-то травой, напоминающей нашу мяту.
Мы идём всё по новым местам. Но, к удивлению моему, выходим к тому же месту, откуда вошли: по этим горам и оврагам совершенно теряешь направление.
Солнце стоит высоко. Поляна о. Никифора залита ярким светом. Меня снова тянет в лес.
-- Я пойду похожу, отец Никифор.
-- Идите, идите. К четырём часам ждать вас будем: слушать вечерню.
VIII. Вечерня. -- "Таинства". -- Ночь.
Мы пили чай и разговаривали с о. Никифором не в келье, а на маленькой терраске сбоку кельи. Такие терраски делают себе все пустынники, главным образом, для зимы, когда так заносит снегом, что никуда, кроме как на эту терраску, нельзя выйти.
Теперь о. Никифор попросил в самую келью.
Внутри она гораздо меньше, чем кажется снаружи, да ещё перегорожена надвое, так что каморки крохотные. Из первой каморки во вторую, где стоит аналой и угол завешен иконами, -- низенькая дверь. На двери надпись крупными буквами: "Имей в уме и сердце всегда молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго".
О. Иван встаёт за аналой. Справа, около окна -- о. Никифор. У стены, ближе к двери -- я. Мы почти касаемся друг друга. В маленькое окно виден край ярко освещённой поляны, а в келье полумрак, точно поздним вечером. Вся келья почему-то похожа на тёмную, старую икону. И пахнет так же: кипарисом, ладаном и воском.
О. Иван читал по-монашески, не возвышая и не понижая голоса, не придавая словам никакого выражения. Это по-церковному и в высшей степени мудро, потому что всякое своё выражение делало бы чтение его личным, человеческим, а теперь оно было простой формой и потому по содержанию легче могло стать нашим общим.
О. Никифор часто кланялся глубоким, медленным поклоном. Стоял строгий, сосредоточенный.
Мир остался где-то далеко, как внешнее, чуждое нам. На вершине горы, в маленькой "кипарисовой" келье, у едва мерцающей лампадки мы становимся единой душой и касаемся иного мира, невидимого, Божьего...
-- Свете тихий... -- запел о. Иван также по-монастырски, почти на одной ноте.
И о. Никифор подпевал ему тихим голосом, похожим на вздох:
-- ...святыя славы Безсмертнаго Отца Небеснаго... Святаго Блаженнаго, Иисусе Христе... Пришедше на запад солнца... видевше свет вечерний... поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога...
К горлу подступает незнакомое чувство не то восторга, не то умиления, но, во всяком случае, какого-то большого и нового для меня счастья.
Я сознавал ясно: это не моё, не мною достигнутое состояние, не мне открытое. Как будто бы вошёл я в чужое святая святых и подсмотрел то, что мне не принадлежало. Но это "святое" на одно мгновение коснулось и меня.
Когда после вечерни мы вышли из кельи, мне всё время, до самого позднего вечера, казалось, что служба ещё идёт, что каждое наше движение, каждый наш шаг, каждое наше слово имеет какое-то отношение к службе, является как бы продолжением её, и потому невольно хотелось говорить тихо, благоговейно, серьёзно.
О. Никифор сказал мне:
-- Когда пойдёте в свою келью, я пойду с вами... Мне надо нечто сказать вам.
В другое время я удивился бы этой фразе. Теперь принял её так, как будто бы ждал, что она будет сказана. И просто ответил:
-- Хорошо.
----------
То, что сказал мне о. Никифор, не было проповедью. Нельзя назвать и исповедью.
Он пришёл ко мне, сел за маленький столик, который стоял около койки, и начал так:
-- Мне надо сказать вам, милый братец, о неких таинствах духовной жизни. Вы простите меня, ради Христа.
С первой же встречи с о. Никифором, вечером, на поляне, у меня было какое-то смутное, но неотступное чувство, что о. Никифор страшно близок к тем переживаниям, которые по-церковному принято рассматривать как общение с личными началами потустороннего мира: "бесами", "демонами" и т. д. В улыбке, во взгляде, даже в голосе о. Никифора было что-то неуловимое, но всё время заставляющее ставить его в какую-то личную связь с этой мистической областью потусторонней жизни.
Теперь этот вечер и странная речь его вполне подтвердили моё неясное чувство.
-- Вот какое таинство, милый братец: часто я вижу бесов... Призраками, вроде как тень в лунную ночь. Особенно сильно действуют они от одиннадцати до часу ночи. Громадная какая-то работа у них совершается в это время. В эти часы труднее всего молиться. Зато, если преодолеешь тяжесть душевную, особенно хорошо чувствуется: тишина, благодать, всё живое! Первый раз увидел я их во время чтения акафиста. Как раз после того как, рассказывал я вам, спас меня Господь от безумия и открыл, что не так молюсь... Долго перед этим голос их слышал. Как встану на молитву, слышу, шепчет на левое ухо -- на правое не смеет! Прислушиваюсь к шёпоту и в рассеяние прихожу -- молиться не могу. А тут увидел их вовне: стоят два беса. Третий, чувствую, внутри меня есть, постоянный. Один бес говорит другому: "Входи в него". А тот отвечает: "Не могу". Значит, Господь по благодати власть мне в то время над ними дал; иной раз слышишь -- говорит тебе бес: "Разбей чайник!" А я уж могу ответить: "Нет, не разобью! Ну, а дальше что?" И он скрываться не может -- говорит всё по порядку, пока не признается и в том, зачем пришёл. Этакое таинство! И ведь всё это в разуме, и всё живое!
Было со мной вот ещё какое таинство, милый братец: вижу я, будто бы предо мной область тьмы. И сам я стою в этой тьме, а область света за большою высокою стеною, и я знаю, что там область света. Часто виделось мне это, и каждый раз хочу и не могу перейти через стену. Потом открыл Господь: бес мешает! После того как победил я его и перестал он на левое ухо шептать, я всё-таки не поверил, что вовсе он оставил меня. Не может, думаю, быть. И правда, стал замечать: начнёшь молиться, а он вон где шепчет и отсюда на ум действует!
О. Никифор показал рукой, откуда шепчет бес: область ниже сердца.
-- Стал внутрь умом обращаться, чтобы посмотреть, что есть в сердце, -- не пускает! Как напрягусь -- боль в этом месте нестерпимая, -- опять показал он на прежнее место, -- опять ум назад возвращаю. Своих сил бороться не хватает. Молюсь: Господи, пощади создание Своё!.. И вот открылось таинство. Что бы вы думали? Точно покрывало с сердца спало, и обратились у меня глаза внутрь, и увидел я сердце таким, какое оно есть: маленькое-маленькое, а посреди его вижу змея, тоже маленького. Пока страсти спокойны, стоишь на молитве, и змей спокойно лежит, будто бы неживой, не шелохнётся; как страсти просыпаются, так и он шевелится. Господи, помози! Стал молиться. Долгое время так всё шло. Только однажды смотрю -- нет в сердце змея! Неужто, думаю, совсем ушёл? Да нет! Чувствую, что во мне, а в сердце не вижу. Молюсь Господу. И было мне откровение этого таинства: смотрю раз и вижу его ниже сердца! Только не маленький он, как раньше, а громадный... Из сердца вышел и ниже стал жить. Смотрю -- ужасаюсь! И вот вижу: просовывает он голову, открывается пасть и берёт из моего сердца нечто. И тут же разом почувствовал я, что стал пустой. Что же бы вы думали? Силу души это он взял!.. Господи, пощади создание Своё!.. Долгое время опять прошло. И вот опять вижу -- нет его. И всё-таки по-прежнему чувствую в себе. Увидел новое таинство: он спустился ещё ниже и стал ещё больше! Душа человеческая беспредельна, а силы змея спускаться ниже имеют предел, потому его и можно из себя изгнать. Помог Господь! И когда снова не видно его стало, ушёл из души совсем!
Увидал я тогда новое таинство: будто бы в сердце растёт дерево... Вижу ясно, очима, не то что в рассуждении, а образно, вот так, как будто бы тут перед нами, -- дерево растёт. Только дерево это в сердце. И много у этого дерева ветвей. Вижу -- сходит в сердце огонь Божества и попаляет ветви, и чем больше сжигает их, тем мне свободнее и легче. Догорели ветви до корня, и огонь прекратился, а корни остались. И думаю: почему Господь не попалил корни?.. Господи, пощади создание Своё!.. Попали и корни!.. И слышу: за них ещё надо поработать. И всё это в разуме, и всё живое! И понял я, что, если корней не будет, успокоишься и погибнешь. Понял я это, милый братец, и такую благодать ощутил в сердце, что и передать не могу. В это время такое испытываешь блаженство, что кости точно тают. И человек отдельно ощущает душу и тело. Тело аки одежда делается... И на душе тоже одежда есть, но тонкая, сказать, как бы папиросная бумага... Всё сие по милости Божией открывается... по благодати...
Я бесов теперь никак не боюсь. Всегда чувствую издали ещё, что идут они. И только молюсь: помози, Господи!.. Идут они... -- как-то странно повторил о. Никифор и встал.
-- Ключи от рая даны апостолам, -- сказал о. Никифор, глядя на меня пристально своими светлыми громадными глазами, -- потому всякий, кто хощет, может спастись. В раю, милый, всё живое и единый дух. А ключи от ада у Самого Господа, потому без Его соизволения не может душа в ад быть заключена.
Теперь я пойду. Спите покойно. Может быть, я лишнее что сказал -- простите...
----------
Я остался один.
Последние слова о. Никифора и фраза его "они идут..." почему-то особенно врезались в моё сознание.
Я стал укладываться спать. Пошёл запер дверь. Отворил окно. Прочёл надпись карандашом над койкой: "Кто азм! Господи?"... Поправил восковую свечу. И во всех своих движениях чувствовал странную машинальность. Как будто бы это делал кто-то другой, а я думал об о. Никифоре.
Лег на узкую койку из двух досок. Потушил огонь...
Слова "они идут", засевшие в мой мозг, мало-помалу начали вызывать сначала неясное, а потом всё более и более определённое чувство страха.
Я стал прислушиваться.
И вдруг почувствовал, как от меня в темноту, за стены кельи, протягиваются какие-то невидимые нити и по ним передаётся мне что-то до ужаса безобразное, невыносимо страшное, что двигается к моей келье и от чего нельзя ни уйти, ни спастись...
Я лежал не двигаясь. Не в силах был поднять руку, чтобы зажечь свечу.
Из оврага, припав к земле, крадётся к моей келье тот сумасшедший монах, которого мы встретили в духане. Я не вижу его глазами -- галлюцинации не было, но было какое-то особенное ощущение, представляющее всё с подробностями не менее реальными, чем зрительные образы.
У монаха почти такое же лицо, как и у того, которого я видел. Но это не человек. Всё человеческое отпало, и осталось какое-то непередаваемое, отвратительное уродство. Отчётливо мелькнуло в моём мозгу: это бес сумасшествия... В это время далеко в лесу закричал филин: "У-гу!.. у-гу-гу!.." Монах почему-то совсем припал к земле и остановился. Опять стало тихо. И монах медленно стал придвигаться к келье. Он недалеко. Почти на краю поляны. Если он доползёт до кельи и постучит в дверь -- я сойду с ума от ужаса и буду кричать: "Уйди... уйди... ворожи... анафема..." Я стискиваю рукой койку и делаю страшное усилие, чтобы не дать монаху двигаться дальше. Я чувствую, что это почему-то в моей власти.
Явственно слышу голос о. Никифора:
-- Господи, пощади создание Своё...
Монах колеблется в темноте, делается тусклым, бессильным, расплывается в серой мгле, и я больше не вижу его.
Хочу приподнять руку, чтобы зажечь свечу, и не могу. Оглядываю келью. Вижу в окно крупные, чистые звёзды, почти в полной темноте бледный контур аналоя и большую икону в углу.
Страх не проходит. Смотрю на запертую дверь и всё жду, мучительно жду чего-то...
И вот отворяется дверь, и что-то маленькое, бледное, неясное в темноте входит в комнату...
Я всматриваюсь до холодных слёз на глазах и начинаю различать около двери какое-то подобие ребёнка. Мало-помалу вся его фигура отчётливо, точно освещённая изнутри, вырисовывается на чёрном фоне... Да, это ребёнок. Без одежды. На хилых, изогнутых ножках. Но лицо старое, обвислое, гадкое и страшное.
Стоит, не шевелится, и только круглые неподвижные глаза смотрят на меня в упор.
И опять я напрягаю все силы, чтобы оттолкнуть его прочь от себя. ещё одно мгновение. Он шевельнётся. Скажет слово. И я потеряю власть над своим рассудком. Закричу дико, как кричит чей-то голос в лесу, и брошусь вон из кельи.
И опять так же неожиданно и отчётливо о. Никифор произносит:
-- Помози, Господи...
Я лежу в страшном изнеможении. Исчез ребёнок. Исчез страх. Я так устал, что вообще, кажется, не способен ни на какое чувство.
. . . . . . .
На следующее утро я рассказал обо всём о. Никифору и о. Ивану.
О. Никифор долго соображал что-то и потом сказал:
-- Большое таинство, милый братец... Вы знаете, они даже в церковь приходят. Один иеромонах на Новом Афоне рассказывал мне. Стоит он раз за всенощной в соборе. И видит: подходит впереди его один послушник к другому. Хватает за волосы и начинает бить. Иеромонах хотел крикнуть на всю церковь: "Перестаньте, не деритесь, с ума вы сошли!" Но почему-то, говорит, сдержался. А как сдержался -- всё исчезло. Что бы вы думали? Никаких послушников и не было. Они, бесы, это во образе ему явились, чтобы закричал он среди службы как помешанный. Да и впрямь за помешанного сочли бы.
О. Иван, видя, что я очень расстроен, по обыкновению, поспешил ободрить меня:
-- Ничего нет удивительного. Страхование и мы испытываем часто. Особое искушение посылается нам... Такой внезапный страх ночью нападает, что хоть беги на край света... А тут, без привычки, одни в лесу, да ещё в духане душевнобольной произвёл на вас тяжёлое впечатление -- вот и испугались. Эту ночь надо мне в вашей келье лечь.
-- Конечно, -- согласился и о. Никифор. -- Надо как лучше сделать, как лучше!..
<…> XI. Лисичка
Рано утром мы стали собираться в путь. Дорога предстояла не очень дальняя, но очень трудная: спуститься с горы о. Никифора, перейти Кодорскую долину, пройти вёрст десять по ущелью реки Брамбы и, наконец, подняться на вершину, к пустынникам.
О. Иван укладывался, а мы с о. Никифором стояли на балкончике, и он рассказывал мне очень трогательную историю о лисичке:
-- Приручилась один раз ко мне лисичка. Сначала на поляну ходила. Увидит меня, испугается -- убежит. Я, бывало, положу ей чего-нибудь поесть и уйду. Возьмёт и съест. Потом всё смелей и смелей стала и до того привыкла, что как собачонка за мной, бывало, бегает. Я в келью -- она около терраски сидит, дожидается. Пойду за водой -- она сзади меня бежит...
И вот, пришёл ко мне охотник, мингрел. Лисичка моя как раз на полянке была. Увидал он её, схватился за ружьё. "Не тронь, говорю, это моя лисичка, ручная". -- "Откуда, говорит, она у тебя?" -- "Откуда? Из лесу! Приручилась. Теперь ручная. Мы с ней вместе за водой ходим". Пристал и пристал ко мне: "Благослови, отец, убить". -- "Да ведь ручная, говорю, как же её убивать". Был у меня кусочек рыбы. Бросил я его. Думаю, схватит и убежит от греха. А она взяла, легла в ямочку и ест! "Нет, -- говорит мингрел, -- не могу стерпеть, убью. Благослови". Я уж на хитрость пустился. "Не могу, говорю, благословить тебя, потому что я не иеромонах". -- "Ну, я всё-таки, говорит, выстрелю". Ах ты, Господи! Жалко мне лисички. Ведь ручная, за водой со мной ходит. Господи, думаю, спаси лисичку. А сам прошу охотника: "Не тронь, она никому зла не делает, живёт всё равно как собачка. Целый день около кельи". Не послушался! Прицелился. Выстрелил... Два раза перевернулась она и бросилась в лес. Охотник себе не верит! "Никогда, говорит, в жизни таких промахов не давал". А я рад. Чуть не плачу от радости... Подошли мы к ямке, смотрим: кровь, и так к лесу красной ниточкой потянулась. Долго бранил себя мингрел: уж очень ему было досадно. Говорю ему: "За то, что мою лисичку ранил, никогда ты ничего на этой горе не убьёшь. Она верила, что ей никто зла не сделает. Из лесу пришла, за водой со мной ходила. Что она теперь о нас с тобой думает?" Рассердился на меня охотник, больше и не приходил ко мне.
-- А лисичка? -- спросил я.
-- Лисичка пришла один раз -- на трёх лапках. Он лапку прострелил ей. Попрыгала, попрыгала на полянке. Близко не подошла. Бросил я ей есть -- не взяла. Долго на полянке стояла всё. Точно прощаться приходила. Потом пошла в лес. И больше не вернулась. Может быть, забоялась, а может быть, померла -- Господь её знает...
XII. Дорога на Брамбу. -- Встреча. -- Объяснение. -- Земной поклон.
-- Отец Никифор, -- сказал я, -- у меня к вам большая просьба. Вот вы сено продаёте, на себе его носите вниз, значит, иногда вам нужны бывают деньги. Пожалуйста, возьмите у меня. Я буду так благодарен вам.
И протянул ему деньги.
О. Никифор резко отшатнулся от меня, как-то съёжился и даже руки вперёд выставил, точно защищаясь от удара...
-- Ради Бога, не надо! Ради Бога, увольте!
-- Да почему? почему? Берёте же вы сухари у монахов... подрясники... У меня этого нет... есть деньги... вот и возьмите...
-- Ради Христа, увольте!
-- Да почему?
-- Не люблю я их. Отдайте другим.
И резко переменил разговор:
-- На обратном пути заходите. Я так и буду знать, -- улыбнулся он, -- если вам у нас понравилось -- зайдёте, а если не понравилось -- не зайдёте.
-- Очень понравилось, отец Никифор, но зайти, верно, уж не придётся -- разве на будущий год.
-- Бог знает, увидимся ли; на будущий-то год, если и жив буду, может быть, уйду дальше в горы. Теперь мне особенно нужно безмолвие, -- значительно сказал о. Никифор.
-- Какие же здесь люди? Кажется, и так никого кругом нет.
-- Часто братия за советом приходят. Начнёшь с человеком говорить о том, о другом -- обязательно в осуждение впадёшь, а после от этого очень скверно на душе.
О. Никифор при этих словах поморщился, как от физической боли.
Прощаемся. О. Никифор кланяется и жмёт руку. В утреннем освещении маленькое личико его кажется особенно бледным и борода блестит, как серебряная.
Отправляемся в путь. О. Никифор не провожает нас и не смотрит нам вслед, а сейчас же уходит в свою келью...
<…>
Источник: az.lib.ru
Публикуется по: Свенцицкий В. Граждане неба. Моё путешествие к пустынникам Кавказских гор. Пг.: Новый человек, 1915.